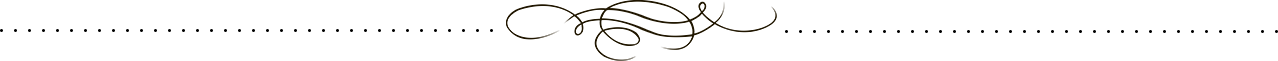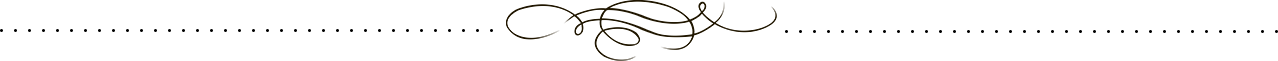Когда-то в городе Брюгге был странный средневековый обычай: входить в дом, где только что умер человек, босиком, оставляя перед входом деревянные сандали и прошлогодние сны. Так продолжалось до того момента, пока эпидемия страшной бубонной чумы, разразившаяся в 1429 году, не опустошила город полностью, лишив его населения и каких бы то ни было снов.
Светало. Они выпили молча по бокалу бургундского вина и посмотрели в открытое окно, в глубине которого сверкала на солнце мокрая от дождя терракотовая черепица на крыше кафедрального собора Святой Богородицы. Мелодичные звуки большого карийона на башне Беффруа возвестили о приходе полдня. В комнате пахло апельсинами и нежной пармской фиалкой. Зеркало, драпированное предутренними грезами и несбывшимися желаниями, отражало в своих муаровых глубинах силуэты двух незванных гостей, ни разу еще не ступавших на порог этого дома.
Чета Арнольфини в каких-то странных деревяных башмаках тайно наблюдала через двойное выпуклое зеркало в мастерской художника, как обедал Ван Эйк. Они явно проголодались с тех пор, как начали ему позировать, а было это в середине декабря прошлого года, и аппетитные запахи с той стороны зазеркалья сильно возбуждали их.
На широком деревяном столе, уставленном красками и разнообразными инструментами художника, в большом глиняном блюде дымилось каре ягненка с розмарином, запечеными сердцевинами артишока и зеленым аспарагусом. Ван Эйк смачно отрыгнул, и сделал большой глоток рубинового, как сердце страстной куртизанки, терпкого поммара. Все его жесты выдавали в нем непревзойденного живописца и жовиала. Он явно знал толк не только в своем ремесле, но и в роскошной трапезе, занимавшей в его жизни далеко не последнее место.
Арнольфини внимательно следили за каждым его движением. Они не могли дождаться момента, когда Ван Эйк притронется к главному блюду трапезы-копченому угрю из Остенде.
Это было безумно интересно, после того, как занявшись любовью на фламандских простынях, в той небольшой комнатке в Брюгге, на улице Слепого осла, мы варили себе кофе прямо на огне камина, а потом, уставившись в окно, декорированное замысловатым цветным витражом, наблюдали за одинокой фигурой Ван Эйка, беспокойно бродящего в утреннем влажном тумане на площади, перед готической базиликой Святой крови. Намерения его были непонятны, но ты предположила, что возможно, художнику понадобилось несколько капелек крови Христовой, привезенной из Святой земли Дитрихом Эльзасским в 1150 году, чтобы придать одеждам Богородицы на картине цвет истинной любви и веры, воспламененный добровольной жертвой Спасителя.
Ты обнимала меня за плечи, кутая в свои невидимые одежды, как-будто пытаясь сохранить это шаткое равновесие между жизнью и смертью и соединить наши души в некоем, только нам понятном, союзе, невесомом и эфемерном, как пламя церковной свечи в соборе Христа Спасителя. Наброшенный тобой на голое тело зеленый пелисон, подбитый мехом горностая, сливался по цвету с безудержной майской зеленью, врывающуюся своим свежайшим ароматом в наш альков из близлежащего парка королевы Астрид.
-Будь осторожен в обещаниях: хоть что плохого в обещаниях? “Любой в обещаниях может стать богатым“,-сказала ты мне, сославшись на Овидия и на отражение Веласкеса в зеркале в его незабываемых «Менинах», сюжет которых мы с тобой придумали в одном из наших совместных сновидений,-ты остался навсегда в моих снах, когда внезапно покинул меня в то дождливое утро, до сих пор отражающее на поверхности своих луж горький привкус нашей мимолетной разлуки. Чтобы приготовиться к одиночеству, нужно непременно разделить его с кем-то. С кем-то, кто однажды уйдет из твоей жизни навсегда, поселившись навеки в твоих снах. Я помню, что ты назначила мне встречу на безлюдной улице Слепого осла в тот час, когда германские войска подвергли беззащитный Брюгге бомбардировке, уничтожая навсегда тончайшее кружево резных, точёных башенок и шпилей. Город изысканного вкуса, полный бесценных сокровищ высококультурной старины, столь любимый нами, был обречен на смерть. То, что не довершила чума в эпоху Средневековья, сделала германская полевая артиллерия во время высокоразвитого гуманизма в начале двадцатого века. С того самого дня ты больше не можешь слышать токкат и скрипичных сонат Баха. А когда-то любимые тобой пфальцские и гессенские вина навсегда исчезли из наших совместных застолий. Иногда, во сне ты начинала говорить по-немецки и тут же просыпалась в холодном поту, словно тебе снились кошмары.
Было без четверти пять, когда небо занялось огненными сполохами и грохот от немецких гаубиц расколол наш день на до и после. Ты сидела на полу, на мягком персидском ковре расцветки маренго, переходящей в пламенеющий пурпур, пила густое, как тень от мельничного колеса, вино и безучастно смотрела в открытое окно, вид из которого был более чем странным: над каналами алели паруса полупрозрачной каравеллы, пытающейся пришвартоваться к Рыночной площади, рядом с башней Белфорт; на фоне сиреневого горизонта пылал дом Ганса Мемлинга, переживший триста лет запустения и забвения, но не переживший германской бомбардировки. Свинцовое небо над городом, отраженное в холодных водах Баудевейнканала, хранило тревожное молчание.
Я снял портрет с каминной полки и, сняв с него верхнюю крышку с изображением обнаженной женщины, словно бы сошедшей с забытой ныне картины «Кабинет искусств Корнелиуса ван дер Геста», повесил его на стену вместо зеркала, которое уже давно ничего не отражало, кроме редких минут тишины и безымянных снов, которые мне пришлось прожить без тебя.
Ты отбрасываешь со лба свои огненно-рыжие, как у Марии Бургундской, локоны и маленькие розовые бабочки, словно опадающий цвет сакуры, заполняют собой пространство гостиной. Трещат поленья в камине и пахнет сосновой смолой. Ты делаешь большой глоток вина и говоришь мне о том, что я буду помнить шорох твоего имени дольше, чем длиться удивление мотылька, попавшего в пламя свечи.
Если посмотреть на лицо этой женщины с портрета Ван Эйка, то время и годы скитаний не сильно изменили твои черты и это, несмотря на то, что я до сих пор не знаю точно, ты только что вошла в эту комнату или уже прощаешься со мной? Даже взгляд твоих глаз не дает мне ответа на этот вопрос, словно кто-то глядит из них так, точно из незнакомых окон давно заброшенного дома. Зеленый пелисон, подбитый горностаем, обвивает твое прекрасное и всегда желанное тело словно ползучий вьюн. Я хотел бы упасть в эту зелень и раствориться в ней подобно аромату розы-в теплом вечернем воздухе лета. Рано или поздно здесь все зарастет травой, стремящейся к звездам и ночному бархату бессмертных небес, равнодушно глядящих на нас из вечной космической пустоты.
Когда Джеймс Хей, полковник-лейтенант 16-го полка легких драгун, участник знаменитой битвы при Витории, представил в 1816 году самому Георгу IV полотно Ван Эйка, никто во всей Британской империи даже не представлял себе, где находиться этот пресловутый Брюгге. Сегодня нам с тобой не представляет труда с легкостью до дюйма определить его местонахождение на карте исчезнувших в небытие городов: горящие от немецких бомб дома и пылающая башня Белфор навсегда изменят географические карты несостоявшегося для нас будущего.
Твоим именем я назвал эту женщину на картине. Облаченная в зелень, она стала для меня прообразом потерянного навсегда Эдема, фантастического райского сада, рожденного силой эротических фантазий Евы или Лилит. Она носила под своим сердцем больше, чем человеческое дитя: она вынашивала целую вселенную, которая впоследствии раскроется в пурпуре славы и величия трепетным лепестком на бутоне невидимой дамасской розы, в том тайном саду, где я впервые вошел в пределы твоего храма, навеки завещанного тобой мне, как Земля обетованная. Мог ли я мечтать о чем-то большем?
Когда Ван Эйк закончил свою трапезу и чета Арнольфини могла наконец-то насладиться копченым угрем и глотком бесподобного поммара, ты проводила художника в наши покои и он, усевшись в большое удобное кресло, стоящее прямо перед пылающим камином, мог предаться своим мечтам и разговорам о философии и согреться чашечкой подогретого на пару сакэ. В тот вечер мы много говорили, в основном, о греках. Тебя занимал Гераклит, Ван Эйка-один из Диогенов, кто именно, было непонятно, я же просто знакомился с манускриптом «Summa theologica» Фомы Аквинского, с энтузиазмом растапливая им камин, который явно был от этого в восторге.
Когда-то я знал двух Диогенов: Диогена Лаэртского и Диогена из Синопа. Один был шутом и проказником, другой-ученым мужем и серьезным философом, хранящим ответы на все случаи жизни. Но так уж вышло, что юмор более живуч нежели земные науки, поэтому одним Диогеном на свете стало меньше, а вместе с тем, и сомнительной премудрости, которая занимала явно ни свои парфеноны и пестумы.
От греков мы перешли к картам таро и твои тонкие пальцы, задорно пробежавшись по всей длине, шелестящей символами, колоды, вытащили «Башню», «Шута» и «Любовников». На первой карте мы узнали охваченную пламенем башню Белфор, звенящую в окрест своими отчаявшимися колоколами и разрушающуюся на наших глазах от прямых попаданий германских снарядов. Ван Эйк стремительно присвоил себе «Шута», воспользовавшись внешним сходством с изображением на карте. Ему многое сходило с рук и дело даже было ни в близости его к самому бургундскому герцогу Филиппу и ко всему двору, сколько в великолепном искусстве мастерского перевоплощения и камуфляжа, знакомого ему еще с детства. Допив сакэ и подбросив поленьев в камин, он, обув деревянные башмаки, растворился в пелене прорвавшегося с небес майского ливня.
Мы оказались с тобой вдвоем на перекрестке, карта «Любовники» указывала нам направление и примерную хронологию наших совместных деяний в будущем, единственное, что представляло определенную трудность для подобного рандеву-это неподкупная прочность лакированного временем льняного холста, безжалостно разделяющего нас с тобой на пятьсот восемьдесят три года.
25.01.2017