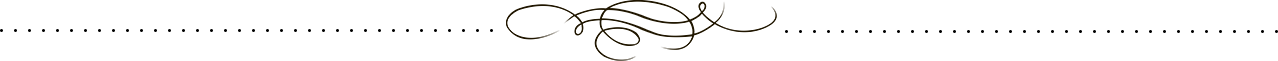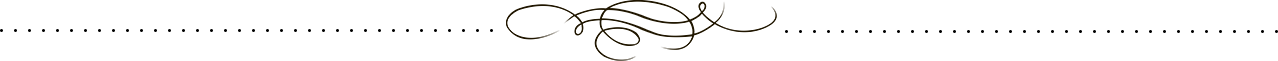Я жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке…
Мой дядя Густав был идиотом, но в редкие моменты короткого просветления он говорил, что скоро наступят времена, когда люди всегда будут уставшими от потоков информационной грязи, СМИзерии и не смогут от этого отдохнуть. Никогда. Теперь я вижу, что он был абсолютно прав, несмотря на свой редкостный идиотизм.
Он был очень ранимым парнем, с душой подобно одуванчику. Однажды он увидел на окраине деревенского кладбища маленькую полянку с ярко красными ягодами спелой земляники и безутешно рыдал над этим зрелищем чуть ли не целый час, а ранним утром следующего дня, захватив с собой потертый саквояж и ветхий томик Гюисманса, он вскочил в отходивший уже от перрона экспресс и укатил в Рокамадур, чтобы посмотреть на «чёрную мадонну», да так больше его никто и не видел. Кто в наше время способен потратить добрый час на подобную ерунду-лицезреть землянику? Или наблюдать за полётом чаек над прибрежной полосой в Сен-Мало четверть часу кряду? Я уже даже не говорю о таких редких идиотах, которые остановившись на миг, вперивают свой лишенный выражения взгляд в полотно неба над своей головой.
Собственно говоря, почему я вспомнил пря дядю Густава и спелую землянику? Сегодня с утра я шёл по аллее, той, что тянется вдоль реки со странным названием Орсо, и, на мгновение остановившись, вдруг увидел, как нежно розовые лепестки цветущих яблонь кружатся в лёгком хороводе апрельского ветерка. Захватывающее зрелище, я Вам доложу, ни в одном телевизоре такого не увидишь. Перед моим взором словно бы ожили забытые страницы Сэй-Сёнагон, повествующие о стремительно ускользающей от нас красоте.
Внезапно, мимо меня процокал элегантный экипаж, выгуливающий своих анонимных пассажиров по пустынной аллее и я, оторвавшись от медитативного лицезрения яблоневого цвета, обратил свой взор на чугунную кованную ограду, которая окаймляла собой элегантную розовую виллу, словно ажурный китайский веер, защищающий своим пестрым крылом благородную бледность лица какой-нибудь безымянной кокотки. Я пристально посмотрел на чугунные арабески и мысленно представил, как мимо них когда-то проходили давно ушедшие тени великих и знаменитых ныне мертвецов: Гюстав Флобер, Иван Тургенев, Новалис и Жерар де Нерваль.
Если же, прикоснувшись к чугунной ограде, замереть и прислушаться, то в какой-то момент непременно услышишь казенную поступь гренадерских ботфорт, скрипящих свиной кожей, металический лязг и скрежет сабельных ножен и пьяную ругань их владельцев, собравшихся в славный военный поход в сторону Меца и Бельфора, который, по сути, есть лишь ни что иное, как краткая командировка к неминуемой смерти от французских штыков, пуль и артиллерии. Странно, но ещё даже слышно, как в плотном ароматном воздухе весны затихают их бодрые и бравурные голоса, пьяные от игристых редереров и ароматных женских поцелуев, сорванных словно ускользающий в ничто нежный цвет сакуры и бергамота.
Да, господа, память человеческая — это Вам не пинта светлого эля в вестминстерском пабе «Красный лев» и даже не воскресная прогулка по Булонскому лесу-это гораздо хуже, она, чертовка, фиксирует всё, даже те мало мальские детали, о которых бы хотелось сразу забыть навсегда. Я помнил ещё старинный Кёнигсберг в то славное время, когда здания на набережной горделиво высились над водой словно вековые рейнские замки; когда по мостовым стучали экипажи и высекали задорную искру стальные шпоры бравых прусских драгун; когда в ночном трактире «Лосось» старик Кант под рюмку можжевеловой водки и монастырский квас объяснял весьма недоверчивому Рене Шатобриану, что есть такое категорический императив и почему достопочтенный Фома Аквинский ошибался относительно доказательств бытия Божьего. В сумрачных залах, под сводчатыми аббатскими потолками, горели свечи, трактир жужжал словно громадный улей; кто-то жарил рыбу и гремел глиняными кружками; из темноты пыльного угла доносилась вечная музыка: слепой скрипач наигрывал веселые мелодии из «Волшебной флейты» и очень редко раздавался звон мелкой монеты, падающей на холодный каменный пол.
Я вдруг опять вспомнил про Бодлера, в том контексте, что цветы зла повсеместно проникли в этот мир, заполонив восхитительными и обоятельными сорняками всё его пространство. Невесёлые дела, скажу я Вам откровенно, а бедолага Пруст ещё сокрушался о том, что доступность Одетты, о которой он раньше и не подозревал, была оказывается в своё время известна повсюду от Бадена до Ниццы, где она прожила несколько месяцев и славилась любовными похождениями. Ах, мой бедный Марсель, не сокрушайся сердцем, а лучше выпей липового чая и полакомься печеньем Мадлен, столь заботливо испечённым славной тетушкой Леони. А потом, в один прекрасный день, мы махнём с тобой зимой к морю, на Английский бульвар, а летом-под баденские липы и увидим воочию болезненно-прекрасную значительность этих мест.
Ты ведь даже и не подозревал, что всё докатится до такого безумия сплошь и рядом, а многое просто исчезнет из кругов бытия, как будто этого и не было никогда? Всё-всё: и твои браво закрученные кверху усы, пахнущие бриолином и корицей, лакированные кареты и дилижансы, чудные картины Моро и Гюстава Курбе; неизменный чай five o’clock и нежнейшие эклеры, бланманже и меренга; «Красное и чёрное» Стендаля и «Шагреневая кожа» Бальзака; пышущие дымом огромные паровозы, которые сентиментальный Жорис Гюисманс сравнивал с белыми и чёрными дамами, именуя их — госпожа Крэмптон и госпожа Энгерт соответственно-и изящные кованные пассажи Лионского вокзала с великолепным рестораном на триста посадочных мест; аромат кофе и Перно в безлюдном утреннем кафе возле площади генерала Катру в 17-м округе и свежий, ещё пахнущий чёрной типографской краской, хрустящий номер La Presse с новой главой из «Виконта де Бражелона»… где же это всё?
17.05.2018